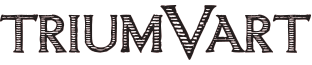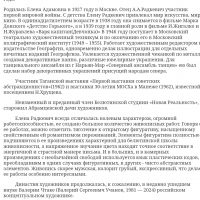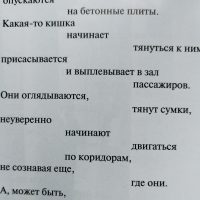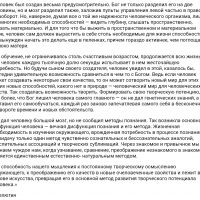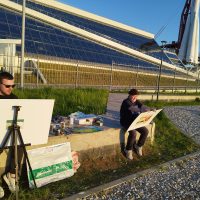27 февраля день памяти Элия Белютина.
27 февраля день памяти Элия Белютина.
 Но теперь мы уже будем вспоминать и его соратницу, друга, жену , не менее
Но теперь мы уже будем вспоминать и его соратницу, друга, жену , не менее
талантливого и значимого человека — писательницу, историка, искусствоведа,
градозащитницу Нину Михайловну Молеву, ушедшую 11 февраля 2024 года.
Вместе с ними ушла эпоха. Эпоха гигантов, эпоха личностей, эпоха людей
безусловно значимых для своего времени и устремленных своей деятельностью в
будущее.
«Деятельность Белютина в 1960-х годах, безусловно, важна для изменения
художественного сознания той эпохи … мне вспомнились попытки организации
художественных студий в 1960-е годы, из которых наиболее общественно
выявленной стала студия «Новая реальность» под руководством Элия Белютина.
Конец 50-х – нач. 60-х годов в советском искусстве определяется как эпоха;
оттепели/ по названию романа И. Эренбурга /. Это было время больших надежд на
радикальные изменения не только в идеологии и политике, но и в культурной жизни
страны.
Молодые советские художники с огромным интересом начинают
экспериментировать в запрещенных ранее художественных направлениях.
Особый интерес вызывают такие направления как экспрессионизм и абстракция.
В конце 50-х годов проблематика абстрактного искусства интересовала собственно
достаточно узкие круги. И хотя в это время прямых официальных запретов на это
искусство не существовало, но и широкой выставочной деятельности не
наблюдалось. Абстрактное искусство находилось на стадии
осмысления и накопления. Знакомство с ним происходило, как правило, в приватной
обстановке в мастерских и на квартирах самих художников.
Одним из наиболее активных художественных объединений того времени
становится студия «Новая реальность», овладевавшая новым художественным
языком под руководством Элия Белютина.» пишет искусствовед Лариса Кашук
Эпоха Белютина продолжалась и в 70 — е, и в 80-е годы и далее, неотделимо
от студии «Новая реальность», вместе с развивающимся, меняющимся в
соответствии со временем художественным языком, вплоть до его ухода в 2012 году.
Элий Михайлович Белютин, Нина Михайловна Молева — личности
неординарные, неоднозначные, но безусловно талантливые, полностью
погруженные в свое дело, владеющие умами людей, как никто. чувствующие
современность, обладающие мощным интелектом — люди эпохи. Или те кто эту
эпоху создают.




















 Сибирские этюды Владимира Виноградова (масляная пастель,картон). Наброски и размышления
Сибирские этюды Владимира Виноградова (масляная пастель,картон). Наброски и размышления